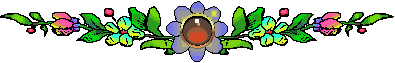ПЕРЕСВЕТ - СЫН ОСЛАБА

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ ПЕРЕСВЕТА И ЗАСАПОЖНИК ОСЛАБА
— Возврати кобылиц и ступай, — вдруг позволил Ослаб. — И не озоруй более.
— Что их возвращать? Глаза пошире откройте: там же, на лугу, и пасутся.
Сергий встрепенулся, ошалело воззрился на старца, затем к уху склонился и зашептал громко:
— Нельзя отпускать! Много чего видел, слышал… Оборотню доверия нет. Сам говорит, от татар пришёл. Давай хоть на цепь посадим? Или в сруб?
И братия приглушённо загудела, выражая неудовольствие, хотя по— прежнему не понимала, о чём толк идёт. Старец и ухом не повёл.
— Иди, гоноша, — махнул бородой, как веником. — Не сыщешь матушку, так возвращайся. А сыщешь, так всё одно приходи. Она возле себя зрелого отрока держать не станет, прогонит с наказом.
Тому бы в сей миг стрекача дать, пока отпускают с миром, а конокрад и с места не сошёл.
— Про наперстный засапожник не скажешь?.. Мне бы только след взять. А чутьё уж приведёт…
Ослаб не дослушал, подманил бородой Кудреватого.
— Ножик верни.
Отрок ослушаться не посмел, однако недоумённо и нехотя вынул из-за голенища нож, подал старцу.
Тот опять бородой мотнул.
— Не мне — ему отдай.
— Да ты что, батюшка? — возмущённо и громко изумился Сергий. — Виданное ли дело? Мало, потакаешь разбойнику, коня своего дал. Ещё и нож давать!..
Конокрад выхватил засапожник у послуха, насадил на пальцы и сжал кулак. Лунообразное жало хищно блеснуло на солнце, вызывая скрытое восхищение в волчьем взоре. Ослаб это заметил, добавил с задумчивым удовлетворением:
— Владей, коль признал.
А тот готов был его к горлу приставить.
— Где добыл? Скажи, не буди лиха!
Отшельник и глазом не моргнул.
— Ты сперва испытай, вострый ли ножик. Не затупился ли с той поры, как пуп резали.
— Как испытать? — гоноша на засапожник воззрился, и вновь пробудилась хищная зелень в глазах.
— Сбрей волчью шерсть.
— Да нет на мне шерсти! Звериную шкуру на себя натягивал…
— Дикий пух с лица убери — борода начнёт расти.
Отрок лицо огладил, примерился и провёл лезвием по щеке. Молодая поросль наземь облетела. Подивился, оценил остроту, но поскрёбся неумело, на ощупь, потому кое-где клочки оставил.
— Говори, старче, откуда ножик?
— Сперва ты сказывай: как имя твоё? И кем был наречён?
Оборотень несколько смутился.
— Помню, матушка звала Ярмил, ещё во чреве… Так имя и приросло.
— Ярмил, говоришь? — старец помедлил, верно вспоминая что-то. — Ну, добро… А год от рождения какой?
— Не помню точно. Кормилец сказывал, семнадцатый пошёл, как меня принесли…
— Похоже, год прибавил… Ну да не важно. Отныне нарекаю тебя Пересветом.
— С какой бы стати? — Ражный встрепенулся. — Мне свычней Ярмил!
— Вырос ты из имени своего, ровно из детской рубашки. Всюду коротко… А новое даю на вырост.
Оборотень вдруг интерес потерял.
— Мне всё одно, хоть горшком назови… Матушка меня под иным именем помнит. Ты лучше мне ответь: откуда засапожник?
— В дар достался, — просто признался старец и переступил немощными ногами. — В утешение. Тебе наперстным засапожником пуп резали, а меня калечили… Ну, довольно, коня моего возьми себе, коль вывел, и поезжай.
— На что мне конь? Вот если бы крылья дал!..
— Покуда тебе и коня необъезженного хватит. Наших кобылиц отпусти и поезжай, куда хочешь.
Оборотень волчьим махом заскочил на красного жеребца, взвил его на дыбы и ускакал не дорогой — лесом, оставив на кустах дерюжку.
Сергий от негодования на минуту дара речи лишился.
Сергей Алексеев. Волчья хватка. Книга 3. Гл. 1

КОНЬ ОСЛАБА И ПЕРЕСВЕТА
— У меня конь застоялся в стойле, — вдруг сказал старец. — Промять бы его, да никто войти не может. Выведешь моего красного?
— А скажешь, откуда наперстный засапожник, выведу!
— Скажу, выводи.
Пришли они к келье отшельника, отрок в щёлку воротную поглядел на коня и говорит:
— Звероватый у тебя конь, старче. Не видал ещё таковых… Поди, лягается больно?
— Войди, так узнаешь.
— Тебе как его вывести? Задом или передом?
— Как хочешь.
Конокрад забормотал, загундосил некую припевку, крадучись, бочком проник в стойло и воротицу за собой притворил. Иноки вкупе с Сергием в догадках теряются: что старец замыслил? Постояли, послушали: оборотень что— то пошептал, конь копытами постучал, переступая, и вроде тихо. Ну и прильнули ко всем щелям. И тут вдруг передняя рубленая стенка стойла слегка пошатнулась и вылетела, ровно не бревенчатая была, а из соломы сложена. Глядь, отрок уже верхом сидит и босыми пятками пришпоривает:
— Н-но, красный! Эко застоялся!
И давай жеребца кругами окрест гонять, то вскачь поедет, то шагом или на дыбы поднимет и танцует, выхваляясь.
Ослаб взирает молча, но игумену не понравилось, грозным голосом припугнуть вздумал:
— Признавайся, куда кобылиц свёл?
— Никуда и не водил, — по-ребячьи незамысловато оправдался разбойник, гарцуя на жеребце. — Порезвился да на поле оставил!
— Старче, врёт он! — возмутился Сергий. — Иноки окрестности изведали
— Ничего не нашли!
Конокрад опять дерзить начал:
— Искали плохо. Они до сей поры в тумане и бродят… Слепошарые вы, душевидцы!
— Забавы ради кобылиц крал? — вмешался старец.
— Да ведь надобно, чтоб кровь разыгралась, конокрадство — это ведь тоже ловчий промысел! Тоскливо мне в ваших краях, одни леса кругом и монахи, не разгуляться. Да и народишко пугливый, как солевары в Дикополье. Я тут у вас затосковал, живу, ровно сей жеребчик застоялый…
Руки и ноги у Ослаба были изувечены, однако короткая и могучая шея выдавала былую мощь и удаль. Поэтому он и подавал знаки головой — кивнул в полуденную сторону:
— Знать, из Дикополья к нам явился?
Оборотень взвил коня на дыбки, наступая на отшельника.
— Из Дикополья!
— И что там ныне?
— Орда злобствует…
Старец не дрогнул, хотя копыта коня молотили воздух у самой головы.
— По какой надобности забрёл, гоноша?
Тот спешился и встал перед Ослабом, словно с повинной.
— Матушку ищу, — вдруг признался. — Бросила меня, сирым вырос, родительской опеки не изведал.
Насторожённые иноки всё ещё поломанное стойло рассматривали и диву давались. А тут как-то враз присмирели, непонимающе запереглядывались: дескать, о чём это толкует конокрад? И отчего суровый старец к нему так снисходителен? Кудреватый кнут сложил, за опояску сунул, хотя всё ещё бдел, перекрывая путь к лесу.
— В степи волчица вскормила? — продолжал участливо интересоваться Ослаб. — Вкупе со щенками своими?
— Отчего со щенками? — словно обиделся молодец. — По обычаю, кормилец и вскормил. И в род свой принял, потому стал как родитель. А у него жена была, тётка скверная, хуже всякой волчицы. Особенно как лукавые татарове хитростью батюшку заманили, споймали да руки-ноги отсекли…
— За конокрадство?
— Не солевары мы и не чумаки! У нас иного ремесла не бывало… И полно пытать!
Сергей Алексеев. Волчья хватка. Книга 3. Гл. 1
КОНЬ ПЕРЕСВЕТА
Норовистый, диковатый красный конь был редкой масти: сам цвета зоревого неба, а нечёсаные, неухоженные хвост и грива — золотистого, так что и ночью светились. Приметный этот жеребец пять лет в монастырском табуне особняком ходил, никого близко не подпускал, а попытки его поймать и объездить были тщетны. Многих лихих наездников и пастухов из числа послухов да иноков покусал, полягал задними, побил передними копытами, а одного сметливого аракса, сумевшего аркан набросить, волок за собой с версту, изувечив десницу. И утешился страдалец тем, что, пока тащился следом, выщипнул у него из хвоста горсть золотистого волоса да потом себе главотяжец сплёл.
А конь словно возгордился своей красотой да волей, скакал себе в удовольствие, любовался, какой он величественный и статный, гарцевал перед кобылицами. За это хотели его сначала в табуне на племя оставить, но случайно изъян усмотрели: красный вспять не ходил. Сухие жилы у всех четырёх ног его коротки были от природы, назад шагу не сделать. От того копыта узкие и скошенные назад, землю так бьют, что комья летят, словно он всё время в гору стремится или взлететь намеревается. То есть даже и объездив, немного будет проку. Для верховой езды ещё ничего — для обоза вовсе негоден, не запрячь ни в телегу, ни в сани, ни под волокушу поставить. Что за обозный конь, коего не спятить? А лошадей в Троицкой пустыни и прочих монастырях разводили не для конного строя, ибо Засадному полку сражаться было след пешим, невзирая на супостата. Свои табуны держали, чтоб скоро ездить на Пир Святой, то есть доставить войско к полю брани. И потому оставляли только дойных кобылиц, дабы араксы в походе не рыскали по округам в поисках пропитания, не тащили с собой обозов с провиантом — всё мешает спешному и скрытному движению. Коль есть всегда с собой молоко, а всякий инок научен, как из него сыр сделать, не покидая седла, такому всаднику по плечу великие вёрсты бездорожьем, окольными путями. А потому добрых жеребцов оставляли на племя, остальных же меняли на молодых кобылиц либо гоняли на ярмарку в Радонеж или Москву.
Таковая участь и красного коня ожидала, да только не могли обуздать, чтоб свести на торжище. А переходивший сроки, необъезженный конь всё равно что дева-перестарок, которую вовремя замуж не выдали: с виду спела, хороша, да норовом строптива и годами не потребна. Проезжие купцы как увидят жеребца в табуне, так залюбуются, не ведая об изъяне, пристают к инокам, продайте либо в обмен отдайте, на любую кобылу. Те же отвечают: мол, возьмите, коль изловите. Бывало, целый день гоняются, пускаются на хитрости, заманивая в загон, покуда не узрят изъяна. А узрят, так сразу и интерес теряют.
Однажды ехал торговым путём богатый ордынец именем Хозя, увидел на поле красного коня, зацокал языком и тоже польстился на его стать, несмотря на то что хвост и грива не стрижены, не чёсаны, все в репьях. У татар лошади были мелкие, низкорослые, это чтоб легче зимой прокормить. Сподобил этот Хозя своих татар словить жеребца, те за свои арканы и давай его по полю гонять. Уж до того догоняли, что коней своих приморили, однако поменяли и снова за красным, крутят, гыркают по-своему, арканами машут, и так и эдак пытаются взять, всё одно уходит.
Уж и засады на него устраивали, и хитроумные силки из арканов по земле разбрасывали, чтоб ноги спутать, кобылицу в охоте впереди пускали, дабы завлечь в загон, ничего не помогло. А ежели ордынцу что на глаз легло и в голову втемяшилось, он уж ни за что не отступит. Хозя узрел такой позор, разозлился, камчой своих приближённых отхлестал и, не сдержавшись, сам бросился ловить.
И стали татары кружить красного коня, взявши в круг. Кружат, а сами всё тесней и тесней сбиваются, получилось, в плотное кольцо взяли, жеребцу деваться некуда, тоже вертится, но вырваться не может. Татары и вовсе сузили круг, и уж не арканами, а камчами пытаются шею захлестнуть на удавку. Красный же пятиться не мог, чтоб уклоняться, татары это заметили, но изъян будто бы им впору, мол, такого и надобно, всё ближе к его морде кружатся. И словили бы наверняка, но жеребец от отчаяния взвился на дыбы и пошёл вперёд на задних ногах, а передними бьёт, ровно аракс в кулачном зачине. Вот сам Хозя и подвернулся ему: голова, словно орех, только щёлкнула под копытом, да ещё несколько татар пострадало. Кого из седла вышиб и стоптал, кого в грудь побил чуть не до смерти. Ордынцы в страхе расступились, красный вырвался и помчался полем. Татары опомнились, похватали луки, осыпали его стрелами, и, пожалуй, до десятка их унёс жеребец в своём крупе.
Хозина родня шибко переживала, но делать нечего и отомстить некому, сами сплоховали, ударили мордой в грязь.
— Шайтан! Шайтан! — покричали, подняли мертвеца, завернули в ткань и убрались восвояси.
А как ловили ордынцы красного жеребца, случайно увидел Ослаб, сам незримо стоя под дубом. Когда татары уехали, отшельник поковылял в поле со своими посошками, и как уж он словил и смирил там непокорного коня, никто не позрел. Только глядят, ведёт его к своей келье, взявши за кудлатую, не знавшую ножниц чёлку. Привёл, узду надел, велел стойло прирубить узкое, чтоб коню не развернуться.
— Кто выведет коня, тому и достанется. Туда и поставил красного да сам принялся ухаживать за ним, чесать, чистить и кормить, но седла даже не показывал и не выводил, чтоб промять. И застоялся бы жеребец, если б ражный гоноша не пришёл.
С тех пор красный ордынского запаха и речи на дух не переносил; как только унюхает или услышит, в тот час так порскнет в сторону, что едва седока не стряхнёт. Уже и поводьев не слушает, норовит свернуть на окольный путь и, страхом исполнясь, несёт лесами да болотами — того и гляди из седла древом выбьет или потонет в хляби. Пересвет удила ему укоротил, жёсткими сделал, иной раз губы в кровь рвал, чтоб прямо ходить научился сквозь опасность и страх преодолел, — ни в какую! Таки мчал Пересвета по Руси, стороной объезжая заслоны баскачьего призора на великих и малых дорогах.
А как миновал леса да поехал полями, сквозь Орду, тут уж не обойти, не объехать, отовсюду веет татарами. То их становища, то кочевья, то разъезды, заметят издали чужого одинокого всадника, в тот час наперерез скачут и сразу спрос учиняют, дескать, куда едешь и по какой надобности. Ордынцам не скажешь, какая нужда гонит в Дикополье, так лучше и вовсе не сталкиваться и ответа не держать. Тут и взъерепенился красный конь, а поскольку отступать не умел, так и вперёд не идёт! Кружит на месте, и ни удила, ни плеть ему нипочём!
— Боишься, так я и пешим пойду! — сказал коню Пересвет. — А ты оставайся один. Мне такой конь не нужен, пусть татары тебя не поймают, так съедят!
Спешился, бросил поводья и идёт сам по себе. Красный потоптался на месте, поржал тоскливо и, видно, набрался храбрости — взвился на дыбы и поскакал следом, только запах отфыркивает. Догнал и рядом идёт, боком к ражному жмётся, озирается, а тот словно и не замечает, знай шагает и шагает мимо ордынских становищ. Пообвыкся немного жеребец, и, верно, стыдно ему стало за трусость свою. Однажды поутру Пересвет проснулся в чистом поле, а красный припал передним на все четыре, повинился, мол, садись в седло, повезу.
— Ладно, — говорит отрок. — Но таки знай: дрогнешь ещё перед татарином либо перед другой лихой опасностью — брошу и глазом не моргну.
Сел и далее верхом поехал. А жеребец приноровился сначала спасать своей резвостью. Не зря долго ждал седока и силы копил в стойле старца: поначалу позволит себя настигнуть, чтоб низкорослые татарские лошади в хвост задышали, увлечёт за собой, поманит, а потом так наддаст, что только земля летит из-под копыт и стрелы, пущенные во след, не поспевают.
— Вот уже и добро! — только и нахваливает Пересвет.
Сергей Алексеев. Волчья хватка. Книга 3. Гл. 13
ЗАСАПОЖНИК ОСЛАБА И ПЕРЕСВЕТА
Я твоего коня промял, старче. Теперь скажи: откуда у иноков твоих наперстный засапожник? Где взяли?
Старец смерил его взглядом, от ответа уйти хотел.
— Мой засапожник.
— Не обманешь, старче! Не твой. Где добыл? У кого отнял?
— Дался тебе засапожник…
— Да мне этим ножиком пуп резали! — воскликнул конокрад и осёкся, отвернулся.
— Ужели помнишь, как резали? — осторожно спросил Ослаб.
— Помню…
— Материнское чрево помнишь?
— А то как же! — горделиво признался конокрад. — Глядишь сквозь её плоть, а мир розовый, влекомый. Солнце зримо, только как звезда светит. Далеко-далеко!.. Век бы жил в утробе, да срок настал, повитуха пришла. По обычаю, говорит, деву на жизнь повью, парнем пожертвую. Всё же слышу… А как я родился, надо мной сей ножик занесла и ждёт знака! Верно, зарезать хотела…
— Суровы у вас обычаи! — то ли осудил, то ли восхитился старец. — И что же не зарезала?
Конокрад самодовольно ухмыльнулся.
— Возопил я! Да так, что травы окрест поникли и повитуху ветром унесло. Матушка мне шёлковой нитью пуп перевязала и отсекла. Да ко своей груди приложила. Оставить себе хотела, спрятать где-нито. Так я ей по нраву пришёлся. Но по прошествии года опять повитуха явилась, забрала да снесла кормильцу.
Их неторопливый и странный разговор и вовсе ввёл иноков в заблуждение. Даже Сергий взирал вопросительно, а старец не спешил что-либо объяснять, с неожиданной теплотой взирая на разбойника.
— Кормилец такой же ражный был?
— Весь род его, и дед, и прадед… Нам и прозвище — Ражные.
— Знать, омуженская кровь не токмо в твоих жилах течёт, — заключил Ослаб. — Весь род Дивами повязан. Это добро!
— Беда, из роду я последний, — внезапно пожаловался пленник.
— А куда остальные подевались?
— Татарове одного по одному заманили. Да и вырезали. Супротив хитрости и раж не стоит.
— На чужбине от гибели скрываешься?
Сергей Алексеев. Волчья хватка. Книга 3. Гл. 1
ДИВА - ЖЕНА ПЕРЕСВЕТА
А почуяв её запах, волки впадали в раж и рвали уже всё подряд — верблюдов, лошадей, людей. Покуда стража отбивалась от рассвирепевших стай, Ражный проник в середину становища, выхватил обе клетки и так же незримо покинул караван. Пленницы слышали его голос, почуяли волчью прыть, признали за своего и присмирели, не издав ни звука. Но, оказавшись далеко в степи, в тот час же обрели голоса.
— Ты кто? — заверещали. — Откуда явился? И зачем похитил?
— Вот позрю на вас, тогда и скажу зачем, — устало молвил он и поставил клетки. — Покуда не рассвело, посплю. Пол дела сделано…
На землю повалился между ними да в тот же миг заснул. Див это возмутило и повергло в недоумение. Обе враз, будто тряпицы ветхие, они порвали свои медные, с позолотой, клетки и вышли на волю. Не зря омуженок называли ведьмами: имея кошачье око, мрак был нипочём. Озрели безмятежно спящего спасителя и, ровно змеи, свернулись, сели в изголовье.
— Ражный отрок, — заметила одна и обнажила голову, распустив длинные золотые волосы. — Должно быть, нашей крови…
— Не смей, сестра! — строго заметила другая. — Спрячь волосы! Сего он недостоин! Ну посмотри: тщедушный отрок, заместо бороды пух птичий… Да и ныне не праздник Купалы!
— А мне по нраву гоноша, — призналась златовласая. — Собой пригож и полон отваги. Я бы исполнила его, не дожидаясь праздника…
— Как он посмел заснуть? — зашипела её товарка. — Похитить двух Див и спать! Даже не искусился!..
В тот миг и разглядела нож на расслабленных перстах отрока, опасаясь пробудить, осторожно сняла его. И в тот час обе вскочили.
— Знак царицы! — воскликнула златовласая. — Зрю её промысел! Конец нашему позору и мукам, сестра! Сей гоноша нас вызволил… Чтоб взять одну из нас, которая по нраву! Он ждёт рассвета, чтобы сделать выбор…
Её суровая спутница насадила нож на персты свои.
— Знак можно толковать двояко. Настал час мести. Тохтамыш должен умереть. И он умрёт…
Златовласая склонилась и покрыла космами своими чело Пересвета.
— Зрю сон его! — зашептала страстно. — Рати стоят на поле… Гоноша на красном коне, с копьём!
— Будь женихом сей отрок, снились бы Дивы, — любуясь ножом, заметила товарка. — А ему битвы снятся!.. Исполни отрока, коль он по нраву. Но я исполню рок свой…
— Постой! — воскликнула шёпотом златовласая. — Как же ему избрать невесту, коли одна останусь?
В ответ из темноты лишь смех послышался:
— Выбор всегда за Дивой! Ну, мне пора, уже рассвет поднимается. Прощай, сестра…
И растворилась в сумраке утра.
Едва над степью восстала заря, Пересвет проснулся и узрел златовласую перед собой. Привстал и взора отвести не мог. Из зарева степного красный конь соткался и принялся толкать его в спину, мол, пора! А гоноша всё ещё зрел на Диву и оторваться не мог. Потом спохватился, вскочил и огляделся. На земле валялись две рваные клетки…
— Но где вторая Дива?
— Ушла исполнить свой рок, — смиренно молвила златовласая.
— А засапожник царицы?
— Унесла с собой. Ей без ножа нельзя…
Ражный обескуражился.
— Как же мне избирать, коль ты одна? И прекрасней на свете не бывает?..
Конь и вовсе не позволил даже поразмышлять, вскинул голову в сторону встающего солнца и трубно заржал…
Сергей Алексеев. Волчья хватка. Книга 3. Гл. 13